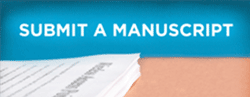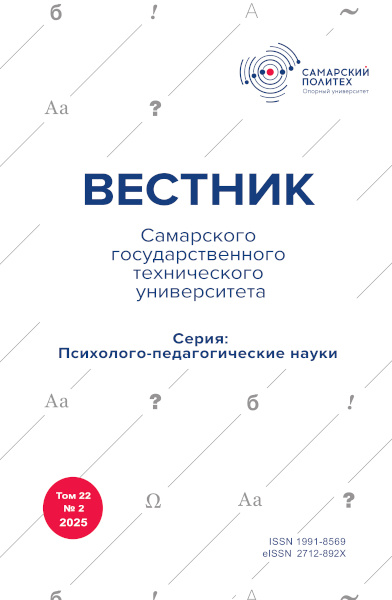Predictors of interethnic tension in the multinational region of Russia
- Authors: Yusupov I.M.1, Khusnutdinova R.R.2
-
Affiliations:
- Timiryasov Kazan Innovative University
- Naberezhnye Chelny Pedagogical University
- Issue: Vol 22, No 2 (2025)
- Pages: 113-128
- Section: Social psychology
- URL: https://vestnik-pp.samgtu.ru/1991-8569/article/view/687793
- DOI: https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2025.2.8
- ID: 687793
Cite item
Full Text
Abstract
Interethnic security is the minimization of external and internal threats perceived by the ethnophore as a problem. Subjectively unstable security is expressed as tension in the interpersonal relations of ethnic groups historically living in the region. Tension has its own indicators – behavioral markers of the subject and predictors of its increase. The aim of the conducted theoretical and empirical study is to quantify the critical values of markers of individual behaviour of the subject, predicting the crisis development of interethnic relations by means of author diagnostic verbal tool. Methodologically, the test construct is based on the protective mechanism of the projective identification of the subject in the attestation process of the actions of a well-known person. Volunteers with higher education such as doctors, lawyers, teachers participated in the test. Based on the array of empirical data obtained, the ranges for different behavioral markers of ethnophores were defined. Normalization of diagnostic scales has been carried out in the pilot sample of 71 people using the Martin sigma method. The quintile scales of markers of subjects’ tension in the interethnic interaction were calculated. The reliability of the test according to the Spearman–Brown formula was +0.81, and the construct validity was +0.71. The discriminativity of the test according to the Ferguson formula was determined as 0.89. Tests on a representative sample confirmed the compliance with all psychometric characteristics. The limits of applicability were outlined and the hidden prognostic capabilities of the designed diagnostic tool were revealed.
Keywords
Full Text
Введение
Межэтническая напряженность в интернациональном и многоконфессиональном регионе – предиктор нарастания неудовлетворенности этносов своим социокультурным статусом. Рост неудовлетворенности масс перерастает в протестное движение с поиском виновника возникшего кризиса. Обычно внимание фокусируется на этносе, исторически соседствующем в ареале [1]. Возникают угрозы распада веками сложившихся межкультурных отношений. Хрупкая безопасность, осознаваемая как проблема, субъективно трансформируется из межличностной в межэтническую и выражается ростом напряженности, имеющей свои индикаторы: предикторы, наблюдаемые в поведенческих маркерах этнофоров.
Обзор литературы
В межэтническом взаимодействии интолерантность к этническому соседу может проявляться через поведенческие маркеры в эмоциональной и культурной дистанцированности, гиперидентичности, неприятии религиозных канонов, трудовой и социальной незанятости, делинквентном поведении, иных массовых явлениях [2]. Как было показано Е. Живкович [3], надежным предиктором толерантности национальной общности к иному этносу выступает позитивное отношение к аутгруппе, маркерами которой предстают этнически религиозная идентичность, а также принятие ингруппой ответственности в случае возникшего конфликта.
Религиозная ориентация играет свою роль в национальной идентичности субъекта. Если он приемлет каноны религии, доминирующей в этнической общности, то его самоидентификация соответствует ценностям диаспоры [4].
Исторически в некоторых многонациональных общностях религия становилась базой государственного строительства, например в Пакистане, Иране, Афганистане, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах. И сегодня трудно сепарировать их этническую идентичность от религиозных матриц. Религиозная ориентация основана на нарративах священных книг. В современности это чаще проявляется в образовании и бытовой сфере [5]. Как аргументируют этнографы [6], в многоукладных обществах этноидентичность субъекта формируется в малых группах при непосредственных бытовых контактах, в которых религиозная культура усваивается через исполняемые этнокультурные ритуалы и языковое повествование.
В национальном самосознании следует выделять две составляющие: присоединяющую (осознание внутренней интеграции субъекта со своим этносом) и дифференцирующую (осознание своей этнической специфики). Во взаимодействии они образуют его ядро – этническую идентичность. Несмотря на мировые процессы глобализации и объективные потребности этносов в выживании, при объединении разных народностей в единое культурное пространство региона остается сохранным их консервативное следование бытовым и нравственным обычаям, передаваемым в повседневности от одного поколения другому. Например, эмпирически было засвидетельствовано, что мотивационные и ценностно-смысловые стороны этноидентичности студентов, принадлежащих к разным народностям Дагестана, различаются [7].
В контраст с ранее приведенными фактами существуют сведения, добытые научным путем, о том, что многопоколенная диффузия культурных традиций, национальной ментальности и ценностных ориентаций казахов и русских, веками соседствующих в одном ареале, предрасполагает этнофоров к оценке своего сосуществования с этническим соседом как толерантного и даже благожелательного [8].
Незанятость активного населения снижает неустойчивую общественную безопасность. Трудовая незанятость и социальная незащищенность жителей усиливают напряженность в полиэтничной общности. Изучены и подробно описаны маркеры, вызывающие протестное поведение [9]. Среди них наиболее весомыми отмечены статусные – клановость правящих элит, выдвижение на руководящие посты не по достигнутым успехам и заслугам, а по личной преданности. В числе социальных – нереальность ожиданий нетитульных народов попасть в служебно-карьерный лифтинг.
Чем острее неудовлетворенность своим статусом, тем сильнее стремление субъекта изменить сложившуюся ситуацию в свою пользу. Чаще девиантное поведение выливается в протестное движение. По определению Е.В. Ефановой [10, с. 30], «протест – это поведение, форма участия личности и/или общности в осуществлении политической власти, защите своих политических интересов».
Более других склонны к протестному поведению молодые лица. Общность неудовлетворенных целей и интересов молодежи способствует спонтанному зарождению групповой идентичности, но она – не единственная причина бунтарского настроения субъекта. Триггерами экстремистских акций могут выступить как потребность громко декларировать свои права, так и стремление изменить сложившуюся ситуацию в свою пользу [11]. Групповая идентичность консолидирует активистов, притягивающих к себе личностей с неустойчивой социальной ориентацией. Высокая внушаемость, сочетаемая с некритичным мышлением, приоритетом бытового гедонизма, эгоистичной потребительской направленностью, жаждой сиюминутного удовольствия и всплесками гипер- или гипоидентичности, снижает резистентность молодых людей к радикальным взглядам. Перечисленные субъективные факторы в совокупности со схематичным отображением сложной общественной жизни предрасполагают молодежь к принятию националистических идей и акциям экстремизма [12].
Нейтрализацию межэтнической напряженности социологи усматривают в совместной деятельности соседствующих в ареале этнофоров при совпадении их личных целей с национальными интересами. Позитивный организаторский опыт региональных этнических и конфессиональных общностей в решении актуальных задач уже накоплен и отмечен [13].
По взглядам отечественных юристов, множество факторов девиантного поведения молодежи (в том числе и проявления радикализма в своих крайних сценариях) обобщенно сводятся к биполярному влиянию на нее общественной среды и семьи [14]. Носителем неудовлетворенности, вызывающей социальную напряженность, всегда выступает конкретный субъект. Ущемление актуальных потребностей интерпретируется субъектом как угроза своему благополучию.
Стимулами роста напряженности становятся психотравмы от ранее нанесенных оскорблений, унижений, обид. В угрожающих ситуациях из подсознания реактивно всплывает комплекс защит – это взращенные и застывшие паттерны субъекта, рожденные в семье или контактных общественных отношениях. Их наблюдаемые маркеры включают предикторы социальной напряженности [15].
В обзоре научных публикаций региональная межэтническая безопасность освещена в аспектах объективных и субъективных психосоциальных факторов, несущих диагностическую нагрузку. Они фиксированы статистически без прогностической экстраполяции. Вопросы вероятностного развития событий при «подогреваемой» напряженности деликатно обойдены стороной. С опорой на теорему Байеса для заполнения образовавшейся научной ниши предпринята авторская попытка вероятностного прогноза кризиса в многонациональном и поликонфессиональном регионе.
Материалы и методы
Цель теоретико-эмпирического исследования – вычислить критические значения маркеров индивидуального поведения субъектов, прогнозирующих кризисное развитие межэтнических отношений, посредством авторского диагностического вербального инструмента.
Методологически конструкт теста базируется на защитном механизме проективной идентификации субъекта при аттестации им поступков хорошо и давно знакомого человека. Для конструирования инструмента планируемых исследований сформировались три независимых фокус-группы из психологов-практиков, юристов, врачей и педагогов общей численностью 48 человек. Они включали экспертов, проживающих и родившихся в межнациональных браках.
На разрешение специалистов ставился вопрос: какие причины вызывают межэтническую напряженность этнофоров в многонациональном регионе? Аудиозапись в группах фиксировала дискуссии и мнения. Контент-анализ фраз сложил структурно-функциональный гештальт межэтнической напряженности (см. рисунок). В нем каждый луч звезды – это маркер, отражающий социокультурные потребности ассимилированных этносов. Лучи опираются на пентабазис этносоциальных защитных симптомокомплексов, образующих предикторы напряженности от неудовлетворенных социальных и культурных потребностей этнофоров. Предикторы расположены не в случайном порядке, а размещены по признаку смежности. Активация любого из них индуцирует психосоциальное содержание смежного защитного симптомокомплекса [16].
Пентабазис предикторов межэтнической напряженности
С опорой на гештальт межэтнической напряженности, выстроенный экспертами, а также на методические границы вербальных методик [17, 18] был сконструирован опросник (Приложение 1), фиксирующий множество завершенных поступков аттестуемого лица в долгом включенном наблюдении за ним. Учитывалось, что респондент сам является субъектом с присущими ему личностными защитами. Таким образом, аттестуя хорошо знакомого человека, респондент в вербальном описании ситуации проецирует на него мотивы своих поступков.
При индивидуальном опросе волонтер получает текст опросника и бланк ответов с инструкцией на бумажных носителях (Приложение 2). В индивидуально-групповом обследовании (не более 8–10 лиц единовременно) допускается экспонирование на экране каждой позиции опросника отдельным кадром, но при этом индивидуальным остается заполнение бумажных бланков.
Результаты исследования
Испытания теста проводились на соответствие его требуемым психометрическим характеристикам: валидности, надежности, дискриминативности.
Конструктная валидность определялась путем установления линейных корреляций между шкалой гиперидентичности авторского теста и шкалами этноэгоизма (-0,03) и этнофанатизма (-0,04) на той же выборке респондентов, тестированных опросником этнической идентичности Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой [19]. Полученные незначительные отрицательные значения численно подтверждают небольшое (приемлемое) отличие шкалы гиперидентичности авторского теста только от шкал этноэгоизма и этнофанатизма. Впоследствии для тестовых измерений, проведенных в шкалах порядка, подсчитывался коэффициент ранговой корреляции Спирмена
,
где d2 – квадрат разностей между рангами;
n – количество признаков, участвовавших в ранжировании.
Вычисленный коэффициент ранговой корреляции +0,71 означает, что в оценочных суждениях респонденты подсознательно проецируют мотивы своих поступков на аттестуемого субъекта. Это дает основание отнести авторский диагностический инструмент к категории вербально-проективных тестов с прогностическим потенциалом.
Надежность теста – его устойчивость против внешних воздействий – проверялась делением на равные части ввиду невозможности ретестирования по условиям обследования. Коэффициент надежности вычислялся по формуле Спирмена – Брауна при условии σ1 ≈ σ2 : rxx = 2r1,2 / 1 + r1,2 = +0,81.
Тест признается устойчивым к внешним помехам при коэффициенте надежности в диапазоне от 0,6 до 1,0. В осложненных условиях применения для 5 % порога значимости этот коэффициент может быть принят 0,65 на нижней доверительной границе.
Дискриминативность взята за меру соответствия концепта опросника оценке респондентом поступков аттестуемого лица. Коэффициент вычислялся по формуле Фергюсона:
,
где N – число испытуемых;
n – число заданий;
fi – встречаемость показателей.
При равномерном распределении заданий с полным проявлением измеряемых свойств коэффициент δ = 1, а при отсутствии дискриминативности δ = 0. Полученный высокий коэффициент 0,89 – показатель сепарации волонтеров с высокими значениями по шкалам от волонтеров с нормативными показателями.
Проверка закономерности встречаемых значений измеряемого признака в генеральной совокупности эмпирических замеров показала нормальность его распределения с положительным пикообразным эксцессом, что подтвердила дискриминативность спроектированного инструмента.
Нормализация каждой из шкал по маркерам межэтнической напряженности проведена сигмальным методом Мартина [20] на выборке из 71 волонтера (табл. 1).
Таблица 1. Уровни межэтнической напряженности, воспринимаемой этнофорами
Маркеры межэтнической напряженности | Уровни | ||||
Очень высокий | Высокий | Средний | Низкий | Очень низкий | |
I конфессиональная | ≥ 14 | 9–13 | 6–8 | 4–5 | < 4 |
II национальная | ≥ 14 | 10–13 | 6–9 | 4–5 | < 4 |
III общекультурная. | ≥ 13 | 10–12 | 7–9 | 4–6 | < 4 |
IV профессиональная. | ≥ 13 | 10–12 | 7–9 | 4–6 | < 4 |
V трудовая | ≥ 13 | 9–12 | 6–8 | 4–5 | < 3 |
VI социальная | ≥ 12 | 9–11 | 6–8 | 4–5 | < 4 |
VII численный этнодисбаланс | ≥ 14 | 12–14 | 9–11 | 7–8 | < 7 |
VIII статусный этнодисбаланс | ≥ 12 | 9–11 | 6–8 | 4–5 | < 4 |
IX правовая | – | 12–15 | 9–11 | 6–8 | < 6 |
X дистанцированная | ≥ 12 | 9–11 | 8–10 | 4–7 | < 4 |
Верификация адекватности психологического содержания опросника поведенческим маркерам аттестуемых субъектов выполнялась вычислением статистической взаимосвязи оценок волонтеров с трудностями межэтнических отношений. Для этого из общего числа волонтеров были отобраны 38 лиц, состоящих в интернациональных браках или родившихся в них. Каждому было предложено в письменном виде субъективно оценить переживаемые трудности, вызванные жизнью в поликонфессиональном и интернациональном пространстве.
Инструкция: случалось ли Вам испытывать препятствия, сложности или конфликты в перечисленных жизненных ситуациях? Ответы отметить знаком «Х» – в единичных случаях; ХХ – редко; ХХХ – регулярно. В табл. 2 символами «Х» помечены типичные случаи встречаемых препятствий.
Таблица 2. Субъективные трудности, испытываемые жителями региона
Жизненные ситуации, в которых испытывались сложности, препятствия, конфликты | Как часто | ||
Единично | Редко | Регулярно | |
В получении гражданства России | Х | ||
В получении юридической помощи | |||
В получении медицинской помощи | ХХ | ||
В получении высшего образования в России | Х | ||
В высокооплачиваемом трудоустройстве | ХХХ | ||
В выдвижении на руководящий пост | ХХХ | ||
В общении с людьми другой веры | Х | ||
В проведении религиозно-культовых ритуалов | Х | ||
В малочисленности своей диаспоры | ХХХ | ||
В конфликтах своих детей с учителями и сверстникам | ХХ | ||
Простейшая статистическая обработка показала, что регулярно встречаются с административными и организационными барьерами 11 % респондентов; редко оказываются перед ними 28 %; оставшиеся преодолевали их в единичных случаях.
Опираясь на теорию вероятностей, попытаемся количественно выразить возможное протестное поведение этнофоров по их поступкам, аттестованных волонтерами. Оценим возможность протестного поведения субъектов региона с очень высокой интолерантностью, угрожающей безопасности этнических соседей. Формула Байеса позволяет установить вероятность факта события и побудившей его причины с допущением, что причинно-следственная связь между Aними Bне обязательна:
,
где P (A | B) – предиктор межэтнической напряженности; P (B | A) – вероятность протестного поведения субъектов в кризисе; P (A) – априорная протестная ориентация интолерантных этнофоров; P (B) – полная (суммарная) вероятность протестного поведения.
Наполним цифрами формулу Байеса, включив в нее наши статистические данные. Из общего числа волонтеров 71 человек по инструкции опросника только 9 аттестовали очень известных им персон как нетерпимых к инородцам. Вероятность протестной ориентации Р (А) ввиду интолерантности в регионе априори оценена как 9 / 71 = 0,126 ≈ 0,12. В возможном кризисе «В» протестное или безучастное поведение этих этнофоров «А» гипотетически равновероятно, т. е. 0,5. Вероятность ожидаемого и реального протеста P (B | A) составит 0,12 ∙ 0,5 = 0,06. В пространстве гипотез, логически принятом за единицу, альтернативная гипотеза (протеста не будет) подсчитывается как 1 – 0,12 = 0,88, а с учетом равновероятности участия/неучастия этнофоров в протестном движении сократится: 0,88 ∙ 0,5 = 0,44. Предиктор межэтнической напряженности, стимулированной интолерантностью субъектов, составит
.
По этому же алгоритму вычисляются другие предикторы протестного поведения этнофоров в возможном кризисе. Их расчетные вероятности сведены в табл. 3.
Таблица 3. Вероятность возникновения межэтнической напряженности в Татарстане*
Триггеры протеста | Возможность протестного поведения этнофоров в кризисе | Вероятность протестного поведения P (A | B) | ||||
Предикторы | «Ущемленные» лица из общей совокупности | Р (А) | Р (В | А) | Р (В) | ||
Бытовые | Интолерантность | 9/71 | 0,12 | 0,06 | 0,512 | 0,14 |
Гиперидентичность | 33/71 | 0,46 | 0,23 | 0,485 | 0,21 | |
Социальные | Образование этнофоров | 35/71 | 0,49 | 0,24 | 0,497 | 0,24 |
Незанятость населения | 47/71 | 0,66 | 0,33 | 0,556 | 0,40 | |
Межэтнический дисбаланс в составе местной власти | 14/71 | 0,20 | 0,45 | 0,470 | 0,04 | |
*В формуле Байеса объем выборки на расчетную вероятность не влияет.
Обсуждение и заключение
Из расчетных вероятностей протестного поведения (см. табл. 3) видно, что предикторы своими наибольшими значениями (выделены жирным шрифтом) указывают на возможное недовольство незанятой части активного населения с невысоким образовательным цензом. Независимо от своей национальной принадлежности этим субъектам присуща ксенофобия с эпизодическими всплесками экстремизма.
Типичной картиной поликонфессионального и многонационального региона становятся обосновавшиеся в нем мигранты из стран ближнего зарубежья, которые покинули свою родину в поисках лучшей доли. Бóльшая часть из них живет изолированно в своих диаспорах, исповедуя свою религию и придерживаясь в многодетных семьях национальных ритуалов и традиций.
В бытовом взаимодействии с коренным населением интолерантность и гиперидентичность демпфируются ими добровольной культурной изоляцией. Когда они включаются в социальное взаимодействие с этническими соседями в регионе, возникают трения и конфликты на почве отторжения ими общепринятых правил поведения и сложившихся традиций. Притом к местным властям они настойчивы в своих требованиях удовлетворения не только национально-культурных, но и духовных (религиозных) потребностей диаспоры.
Подобное настойчиво-конфронтационное поведение взрослых копируется их многодетным потомством, что проявляется чаще всего в образовательных учреждениях как нежелание усваивать неродной язык, глухое сопротивление принятым нормам поведения в обществе, добровольная самоизоляция от детского сообщества или же агрессивное противостояние ему.
Перечень частных проявлений неадаптивного поведения детей мигрантов можно продолжить, но это не разрешит проблему без законодательных мер, обязывающих всех членов семей переселенцев пройти курс адаптационных процедур в миграционных службах, как это принято в цивилизованных странах. Снисходительность властей чревата тем, что дети современных мигрантов в обозримом будущем займут места недовольных лиц, раскачивающих неустойчивое межэтническое равновесие региона. Об этом сами за себя говорят факты буйного протестного поведения общественно незанятых мигрантов дочернего поколения в ряде европейских держав.
Таким образом, предикторы межэтнической напряженности, подверженные диагностике поведенческими маркерами субъекта, следует рассматривать как вероятностный поступок этнофоров при аккумулированной ими неудовлетворенности социальным статусом. Причину жизненных неудач эти лица видят не в своих личностных качествах, а отыскивают и находят ее среди «понаехавших» переселенцев. При ксенофобии субъекта триггером могут выступить любые привходящие обстоятельства, вызывающие конкуренцию субъектов в какой-либо сфере сосуществования. Неприязнь в быту могут вызвать незнакомый язык, непривычная манера общения, даже неосторожно брошенная унизительная фраза. В общественных отношениях те же поступки будут оценены как дискриминативные.
К диспозиции протестного движения предрасположены этнофоры с очень высокой межэтнической напряженностью (≥ 12 единиц), фиксируемой любым из ее маркеров. Эти лица составляют группу риска в ситуации неустойчивой межэтнической безопасности. В консультативной практике к субъектам с психопатическими симптомами требуется особо настороженное внимание. Иллюстрацией гипотетического вывода может служить череда «цветных революций», прокатившихся в конце XX – начале XXI веков по территории бывшего СССР и ныне эпизодически вспыхивающих в суверенных государствах Закавказья и Центральной Азии.
Следует отметить, что тест нормализован на выборке волонтеров зрелого возраста. Паттерны поведения взращиваются в детстве неблагоприятными для ребенка внешними обстоятельствами и «консервируются» на всю оставшуюся жизнь. Авторский диагностический тест межэтнической напряженности в предложенном виде к когорте подростков неприменим. Диагностические процедуры должны выполняться в иной парадигме, но это – предмет пролонгированного исследования.
Проведенные на пилотажной выборке испытания теста показали его соответствие психометрическим характеристикам: незначительную валидность предиктора гиперидентичности. При этом вполне приемлемыми оказались надежность и дискриминативность по остальным шкалам. Полезность теста усматривается в его прогностических возможностях.
Приложения
Приложение 1
Опросник*
- Добровольно и регулярно повышает профессиональную квалификацию.
- В разных областях культуры эрудирован более своих сверстников.
- Сомневается в необходимости религии для человека.
- В число близких друзей включает только лиц своей национальности.
- Считает, что лицам титульной национальности в решении их проблем дают привилегии.
- В присутствии лиц другой национальности не стесняется обсуждать общие для всех вопросы на родном языке.
- Считает, что не все интересы и увлечения юношества признаются и достойно оцениваются обществом.
- Считает, что неработающим пенсионерам и выпускникам профессиональных учебных заведений часто отказывают в трудоустройстве по квалификации.
- Считает, что если нет высокостатусного покровителя, то нет и шансов на успешный бизнес или взлет служебной карьеры.
- Считает, что национальные меньшинства держатся обособленно в диаспорах.
- Считает, что университетское образование дает преимущества перед лицами, которые не имеют его.
- Вместе со своими детьми регулярно посещает художественные выставки и театральные постановки.
- К соблюдению религиозных канонов (правил) относится скептически.
- Предпочитает смотреть телевидение и слушать передачи на родном языке.
- Считает, что при выдвижении на руководящую должность отдают предпочтение представителю титульной нации.
- В шумных общенародных празднествах старается не входить в близкие контакты с лицами другой национальности.
- Считает, что талантливому человеку приходится долго добиваться признания обществом своих способностей.
- Считает, что человеку с высшим гуманитарным образованием трудно найти достойно оплачиваемую работу.
- Считает, что человеку некоренной национальности не выбиться в правительство даже областного статуса.
- Считает, что мигранты из национальных диаспор общественно не активны.
- Ориентирует своих детей на востребованные в будущем профессии.
- В период летних каникул обязывает своих детей прочесть несколько книг из мировой литературы вне школьной программы.
- Считает жизненно оправданной и применимой в быту только ту религию, которую сам исповедует.
- При каждом удобном случае подчеркивает лучшие черты своего народа.
- Считает, что для национальных меньшинств служебная карьера ограничена.
- Считает, что в сельской местности число востребованных профессий ограничено.
- Считает, что для национальных меньшинств существует неофициальный запрет замещать некоторые должности в государственных службах.
- Считает, что в руководящий аппарат подбираются субъекты по признаку преданности или родства, а не по способностям и достижениям.
- Считает, что сельское население ограничено в выборе мест культурного отдыха.
- Считает, что сельские жители ограничены в культурных связях с этническими соседями.
*Опросник применим только к лицам не моложе 24 лет.
Бланки собираются по завершении процесса заполнения. Экспериментатор самостоятельно приписывает числовые значения утверждениям:
- категорически не согласен – 1;
- сомневаюсь – 2;
- частично согласен – 3;
- склонен согласиться – 4;
- абсолютно согласен – 5.
Далее по ключу-шаблону подсчитывает сумму баллов в каждом предикторе пентабазиса межэтнической напряженности. Значения маркеров вычерчиваются как индивидуальный профиль субъекта (рис. П1).
Рис. П1. Типовой шаблон для вычерчивания профиля симптомокомплексов этнофора. По периметру круга мелким крапом выделен очень высокий (угрожающий) уровень предикторов межэтнической напряженности
Приложение 2
Бланк ответов
Выскажите субъективное мнение о поступках известного Вам человека, которого знаете не менее 10 лет, наблюдая его в быту, в служебных отношениях, поведении в неформальной обстановке. Вы и аттестуемый субъект остаются инкогнито. Внизу бланка ответов укажите его национальность. На строке, соответствующей номеру утверждения, поставьте диагональный крест «X». Оценивайте однозначно: категорично НЕ согласен; сомневаюсь; частично согласен; склонен согласиться; абсолютно согласен. Не увлекайтесь ответом «сомневаюсь». Не пропускайте ни одно утверждение. В опроснике никаких пометок не делать!
About the authors
Ildar M. Yusupov
Timiryasov Kazan Innovative University
Author for correspondence.
Email: knyaz5491@mail.ru
Doc. Psych. Sci, Professor at the Faculty of Psychology and Pedagogy
Russian Federation, 42, Moskovskaya St., Kazan, Republic of Tatarstan, 420111Rezida R. Khusnutdinova
Naberezhnye Chelny Pedagogical University
Email: rezida.81@mail.ru
Cand. Psych. Sci, Associate Professor at the Faculty of Pedagogy and Psychology
Russian Federation, 28, Nizametdinov St., Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, 423806References
- Turner R.H., Killian L.M. Collective behavior: sociology series. New Jersey: Prentice-Hall, 1957. 547 p.
- Mastikova N.S. Mezhetnicheskaya napryazhennost’ v Rossii i Evrope (po dannym ESS na 2012 g.). [Interethnic tensions in Russia and Europe (according to ESS data for 2012)]. Sotsiologicheskiy zhurnal. 2016. Vol. 22. No. 1. Рр. 95–113. doi: 10.19181/socjour.2016.22.1.3921.
- Zhivkovich E. Sotsial’no-psikhologicheskiye osobennosti mezhetnicheskikh ustanovok v Serbii: Avtoref. dis. kand. psikhol. nauk [Socio-psychological features of interethnic attitudes in Serbia. Abstract of thesis сand. of ps. sci.]. Moscow, 2018. 28 р.
- Agirdag O., Phalet K., Van M. Houtte. European identity as a unifying category: National vs. European identification among native and immigrant pupils. European Union Politics. 2016. Vol. 17. No. 2. Pр. 285–302. doi: 10.1177/1465116515612216
- Safran W. Language, ethnicity and religion: a complex and persistent linkage. Nations & Nationalism. 2008. Vol. 14. No. 1. Pp. 171–190.
- Dingley J., Catterall Р. Language, religionand ethno-national identity: the role of knowledge, culture and ccommunication. Ethnic & Racial Studies. 2020. Vol. 43. No. 2. Pр. 410–429. https://doi:org/10.1080/01419870.2019.1587309 (accessed January 21, 2025).
- Gasanova S.A. Vzaimosvyaz’ etnicheskoy identichnosti i tsennostno-smyslovoy napravlennosti studentov (na primere avarskoy, darginskoy, kumykskoy, lakskoy i lezginskoy natsional’nostey): Avtoref. dis. kand. psikhol. nauk [The interrelation of ethnic identity and the value-semantic orientation of students (on the example of Avar, Dargin, Kumyk, Lak and Lezgin nationalities). Abstract of thesis сand. of psych. sci.]. Moscow, 2023. 24 р.
- Sultaniyazova N.Zh. Sotsial’no-psikhologicheskiye prediktory sub”yektivnogo blagopoluchiya russkikh i kazakhov, prozhivayushchikh v Rossii i Kazakhstane: Avtoref. dis. kand. psikhol. nauk [Socio-psychological predictors of the subjective well-being of Russians and Kazakhs living in Russia and Kazakhstan. Abstract of thesis сand. of psych. sci.]. Saratov, 2022. 26 р.
- Sokolov A.V., Palatnikov D.E. Indeksnyy analiz potentsiala protestnoy aktivnosti v sub”yektakh Rossiyskoy Federatsii [Index analysis of the potential of protest activity in the constituent entities of the Russian Federation]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2019. – No. 4. – Рр. 68–74. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41669058 (accessed December 13, 2024).
- Efanova E.V. Molodezhnyy ekstremizm kak forma politicheskogo protesta [Youth extremism as a form of political protest]. Vlast’. 2011. No. 8. Рр. 30–33.
- Klandermans B. Collective political action. Oxford handbook of political psychology. Oxford: Oxford University Press, 2003. Pр. 670–709.
- Veshkin S.V. Profilaktika etnicheskogo ekstremizma studencheskoy molodezhi v protsesse obucheniya v vuze: Avtoref. dis. kand. ped. nauk [Prevention of ethnic extremism among students in the process of studying at the university. Abstract of thesis сand. of ped. sci.]. Maykop, 2024. 27 р.
- Bogatova O.A. Garmonizatsiya mezhetnicheskikh otnosheniy v regional’nom sotsiume: Avtoref. dis. dokt. sotsiol. nauk [Harmonization of interethnic relations in the regional society. Abstract of thesis doc. of sotsiol. sci.]. Saransk, 2004. 36 р.
- Sibiryakov S.L. O nekotorykh istochnikakh sovremennogo terrorizma i vozmozhnykh putyakh ego rannego preduprezhdeniya [About some sources of modern terrorism and possible ways to prevent it early]. Rossiyskiy kriminologicheskiy vzglyad. 2005. No. 1. Рр. 79–82.
- Yusupov I.M. Proyektivnyy test psikhologicheskogo konstrukta izmeny [The projective test of the psychological construct of infidelity]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Psikhologo-pedagogicheskiye nauki. 2022. Vol. 19. No. 2. Рр. 91–112. https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2022.2.7 (accessed December 12, 2024).
- Khusnutdinova R.R., Yusupov I.M. Kontseptsiya mezhetnicheskoy bezopasnosti regiona (na primere Tatarstana) [The concept of interethnic security of the region (using the example of Tatarstan)]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Psikhologo-pedagogicheskiye nauki. 2023. Vol. 20. No. 2. Рр. 199–216. https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2023.2.15 (accessed November 12, 2024).
- Zade L.A. Osnovy novogo podkhoda k analizu slozhnykh sistem v protsesse prinyatiya resheniya [The basics of a new approach to analyzing complex systems in the decision-making process]. Matematika segodnya. 1974. No. 7. Рр. 5–48.
- Rëshlen M. Izmereniya v psikhologii [Measurements in psychology]. Eksperimental’naya psikhologiya: pod red. P. Fressa, Zh. Piazhe. Vyp. 1–2. Moscow: Progress Publ., 1966. Рр. 195–238.
- Soldatova G.U. Psikhologiya mezhetnicheskoy napryazhennosti [The psychology of interethnic tension]. Moscow: Smysl Publ., 1998. 389 р.
- Bashkirov P.N. Ucheniye o fizicheskom razvitii cheloveka [The doctrine of human physical development]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta, 1962. 340 р.
Supplementary files